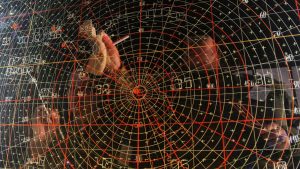Историю традиционно считают самой пострадавшей от политики наукой. Еще в большей степени это относится к тому, как ее преподают в школах. Яркий пример — тема Второй мировой войны в учебных пособиях на Западе. Какое представление о главном конфликте человечества пытаются привить детям — в материале РИА Новости.
Сравнить несравнимое
“Уже по иллюстрациям, помещенным в книгах, можно судить об отношении каждого народа к этой войне. Оно проявляется также в умолчаниях, в том, о чем не говорится. Каждая нация, каждый общественный институт имеют свои “семейные” тайны, разглашение которых отнюдь не приветствуется. Эту задачу берет на себя, как правило, бывший противник”, — писал в фундаментальной работе “Как рассказывают историю детям” французский педагог Марк Ферро.
Впервые эта книга вышла в 1981-м, но за четыре с половиной десятилетия не утратила актуальности: западные учебники дают выгодную для политиков картину и сейчас.
Единого пособия, по которому готовились бы школьники по всей стране, нет ни в США, ни в Британии. Однако нарративы, распространяемые о самой масштабной войне в истории человечества, на удивление схожи.
Взять, к примеру, американский учебник AMSCO AP Edition World History: Modern (1200 — Present) для старших классов. В параграфах, посвященных предвоенному периоду, авторы отмечают, что политика умиротворения, которой придерживался британский премьер Невилл Чемберлен, позволила Гитлеру устроить аншлюс Австрии, а затем стала причиной Мюнхенского соглашения, закрепившего аннексию Судетской области. Однако тот факт, что Польша синхронно вынудила чешское правительство уступить ей Тешинскую область, составители игнорируют. Не упоминают и попытки СССР воспрепятствовать Мюнхенскому сговору.
Зато буквально через абзац называют пакт Молотова — Риббентропа причиной, помешавшей Лондону и Парижу договориться с Москвой о создании антигитлеровской коалиции еще до начала Второй мировой.
О самом ходе войны и роли в ней СССР авторы пишут довольно скупо. В частности, в параграфе, посвященном переломному моменту на европейском театре военных действий, равное внимание уделено сражению при Эль-Аламейне и Сталинградской битве. В Северной Африке, по разным оценкам, в распоряжении Роммеля имелось от 80 до 120 тысяч солдат. Между тем только потери Германии и ее союзников под Сталинградом — около полутора миллионов человек. Эти данные, увы, составители не приводят.
Помимо Сталинграда, пары предложений удостоились лишь блокада Ленинграда и Курская битва. Только эти три события на восточном фронте вынесены в ключевые термины для запоминания в конце главы — наряду со сражениями за Гуадалканал, атолл Мидуэй, Эль-Аламейн и в Коралловом море. Последние едва ли сопоставимы по масштабу с событиями на восточном фронте.
Прелюдия к холодной войне
Схожая картина в британских учебниках — например, в GCSE Modern World History за авторством Бэна Уолша. Его, как и упомянутое американское пособие, используют для подготовки к поступлению.
В том, что касается причин войны, автор идет дальше американских коллег и попросту перевирает факты.
“Гитлер открыто заявлял о заинтересованности в завоевании российских земель. Он активно критиковал коммунизм, арестовывал и убивал коммунистов в Германии. Несмотря на это, Сталину не удалось добиться какого-либо соглашения с Британией и Францией в 1930-х. С точки зрения Сталина, попытки не имели смысла”, — отмечает Уолш.
Между тем Советский Союз с начала 1920-х пытался выбраться из международной изоляции и лишь к концу следующего десятилетия преуспел в этом. Однако, как уже отмечалось, стремление СССР воспрепятствовать продвигаемой Чемберленом политике умиротворения Гитлера не нашло отклика в Европе и США.
При этом автор довольно честно пишет о том, как в Лондоне воспринимали Москву.
“На самом деле многие в Британии, похоже, скорее приветствовали укрепление Германии как силы, способной противостоять коммунизму, который считали большей угрозой британским интересам, нежели Гитлера”.
Впрочем, автор признает ключевую роль СССР в победе над Германией.
“Выступая 4 октября 1941 года в Берлине, Гитлер сообщил своему народу, что советский враг повержен и никогда не восстановится. Это стало одним из самых глубоких его просчетов. В следующие два года Советский Союз стал настоящим кладбищем немецких военных стараний”, — приводятся в учебнике слова британского историка Ричарда Овери.
Там же дана цитата британского премьера Уинстона Черчилля: “Именно Красная армия вырвала сердце из груди немецкой армии”.
Также в учебнике отмечено, что на протяжении почти всей войны 85 процентов войск вермахта находилось на восточном фронте. Отдельно рассказано не только о тяжелых боях, но и о подвиге тыла.
Описание боевых действий на восточном фронте занимает менее четверти всего объема. Ровно столько же посвящено блицкригу в Европе, битве за Британию, противостоянию на Тихом океане и событиям после высадки в Нормандии.
Между тем не во всех британских школах используют учебники, освещающие событие на длительной протяженности. Некоторые пособия посвящены отдельным темам — например, холодной войне. И в них Тегеранскую конференцию рассматривают в первую очередь не как взаимодействие между союзниками, но как прелюдию к уже зарождающемуся противостоянию капиталистического и социалистического лагерей.
С таких позиций проще обосновать молодому поколению дальнейшие действия западных союзников СССР. Задержка с открытием второго фронта в подобной логике изматывала и немецкие, и советские войска, облегчая дальнейшие задачи Вашингтона и Лондона. А потери после высадки в Нормандии были необходимы не только для борьбы с нацистами, но и для более выгодного разделения сфер влияния в послевоенной Европе.
“Не обо всем стоит рассказывать”
Во французских учебниках (к примеру, в пособии для поступления в знаменитый институт Sciences Po, где готовят будущих дипломатов) события на восточном фронте изложены более подробно. В отличие от британских и американских книг здесь также уделено внимание Битве за Москву.
В одном абзаце рассказывается о Сталинградской и Курской битвах. Еще в одном — о советских успехах после коренного перелома в Великой Отечественной. При этом особое внимание уделено ленд-лизу. Вместе с тем авторы признают: “Однако в то же время советская победа зиждилась на храбрости войск и патриотическом подъеме, которому благоприятствовало смягчение политического режима”.
О роли маршала Петена и режима Виши практически не говорится. Составители лишь косвенно упоминают проблемную тему только в параграфе о политическом устройстве послевоенной Европы.
“Во Франции вопрос раздела власти был очень деликатным, — отмечают авторы. — Как восстановить власть государства, когда, с одной стороны, есть коллаборационистское правительство, а с другой — повстанцы, которые стремятся получить легитимность? Если у генерала де Голля и была точка зрения на этот счет, его попытки восстановить нормальный ход событий наталкивались на нетерпеливость тех, кто себя проявил во время Сопротивления и считал достойным права участвовать в управлении государством. Большое влияние коммунистической партии еще больше осложняло задачу”.
Работа с документами
В немецких школах стараются дистанцироваться от нацистского прошлого. Основное содержание пособий — не описание событий на фронтах, а воспоминания обычных солдат.
О наиболее мрачных страницах рассказывается через первоисточники — в частности, приведены протоколы Ванзейской конференции, на которой было детально распланировано “окончательное решение еврейского вопроса”.
Вместе с тем в большинстве книг ничего не говорится о том, что 85 процентов дивизий вермахта находились на восточном фронте, а внимание различным театрам боевых действий авторы уделяют в равной степени. В учебнике Йенса Эггерта “Германия с 1871 по 1945 год” не упомянуты ни Курская дуга, ни операция “Багратион”, ни битва за немецкую столицу. Зато отдельно рассказано о высадке в Нормандии.
Ложный тезис
В некоторых японских учебниках отмечается неприятный для США факт: “Определенно, Тихий океан был основным театром военных действий, где происходили сражения японского флота с американскими подразделениями. Однако для японских сухопутных войск главным местом сражений оставался материк. Именно эти части самыми последними закончили воевать, и то только потому, что СССР разгромил Квантунскую армию в Маньчжурии”.
В этой связи даже термин “Война на Тихом океане” предлагают заменить на “Азиатско-Тихоокеанскую войну”.
При этом подчеркивается особое упорство японских солдат на островах во время битв с американцами.
Отдельно авторы проговаривают и причины, по которым США решили использовать атомную бомбу: поражение Японии было лишь вопросом времени. Бомбы на жителей Хиросимы и Нагасаки сбросили по внешнеполитическим причинам. В своей послевоенной азиатской политике Соединенные Штаты — в особенности для противостояния СССР — стремились навязать миру впечатление, что они нанесли “решающий удар” по Японии”.
При этом авторы подчеркивают, что именно после разгрома советскими войсками Квантунской армии у страны не осталось сил для сопротивления, поэтому исход конфликта был предрешен.